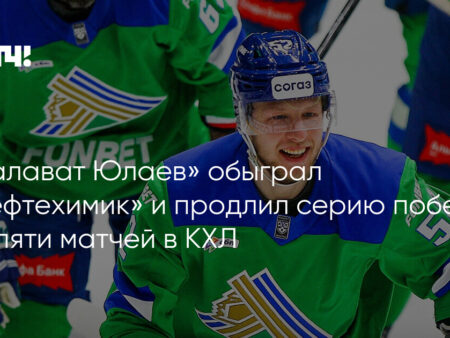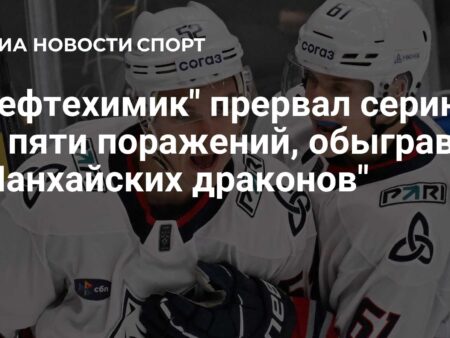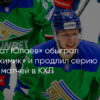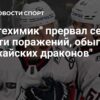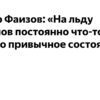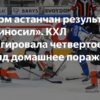В истории хоккея есть личности, чей талант проявляется ярко и самобытно, иногда даже с неожиданными гранями. Именно таким был Юрий Моисеев — выдающийся хоккеист и тренер, сумевший проявить себя в обеих ипостасях с одинаковой силой и стать заметной фигурой, хоть и не всегда на первых ролях.
Как игрок он лишь однажды принял участие в крупном международном турнире на уровне сборной СССР, но эта попытка оказалась «снайперской»: в Гренобле-1968 он стал олимпийским чемпионом и чемпионом мира. Тренерский путь к вершине оказался значительно дольше, но и здесь Юрий Иванович достиг главной цели, приведя казанский «Ак Барс» к золотым медалям чемпионата России в 1998 году.
Мне хорошо запомнился тот сезон, тот «Ак Барс», его наставник и пресс-конференции с участием ЮрьИваныча. С журналистами он общался своеобразно и с долей иронии, высказывался независимо и неординарно, не ограничиваясь общими фразами, но и не уходя в многословные рассуждения. Его подопечные набирали очки методично, «по зернышку», стремясь не упустить ни единого балла. У команд-середняков и аутсайдеров не оставалось шансов, а вот с более сильными соперниками матчи складывались сложнее. Однако к финишу регулярного чемпионата стало ясно, что крепкая и боевитая команда, не блиставшая обилием звездных имен, уже не упустит чемпионский титул.
В сезоне 1997/1998 чемпион определялся именно по итогам регулярной части, а Кубок, который затем завоевала «Магнитка», считался дополнительным трофеем. Неудивительно, что Юрий Моисеев, собаку съевший на ровном прохождении именно регулярного чемпионата, оказался в своей стихии. Он смог зарядить команду и весь клуб невероятной энергией, не давая никому ни секунды расслабиться, поддерживая высочайший уровень напряжения. Всем было трудно, но «барсов» вела великая цель, которую Моисеев не озвучивал ежедневно, но воплощал всем своим существом — каждый день и каждую минуту. Он прекрасно понимал, что именно максимальное напряжение поможет осуществить мечту всего казанского хоккея, а также его личную мечту.
Конечно, у него были титулы и звания — как могло быть иначе, если уже в середине 70-х он был ассистентом в родном ЦСКА сначала у Константина Локтева, а затем у Виктора Тихонова. Вклад Моисеева в успехи армейцев был чрезвычайно значимым и, пожалуй, сильно недооцененным. Именно он, особенно при Тихонове, вел основную работу с армейской молодежью, неся ответственность за каждого талантливого, но еще не готового к большим битвам игрока. Многих он уберег от поспешных решений покинуть команду из-за отсутствия места в основном составе, многих вывел на высокий уровень. То, как отзываются о Моисееве его бывшие подопечные, говорит о многом. Лавры, естественно, доставались главному тренеру, а о Моисееве вспоминали нечасто, ведь его вклад в тотальное доминирование ЦСКА заключался не в переманивании очередного таланта из провинции, а именно в кропотливой и ежечасной работе с ним. Мало кому удавалось работать с такой интенсивностью и страстью, но за это орденов не дают; для этого необходима вся полнота ответственности и большие успехи на соответствующей должности. То есть нужно было в любом случае покидать насиженное место и выходить из-за кулис на сцену. Так он и поступил, но, естественно, не в ЦСКА.
Переход в «Динамо» на самостоятельную работу для многих оказался неожиданным, но по-своему логичным: подполковник Моисеев лишился надежд стать полковником, но зато смог в работе с динамовцами частично воплотить тарасовские принципы, и не без успеха. Да, он работал с Тихоновым, но принципы еще как игрок впитал именно тарасовские, что и постарался привнести в команду «вечно вторых», о последнем чемпионском звании которой даже динамовские старожилы давно позабыли. Само решение перейти в клуб, даже лидеры которого, казалось, смирились с ролью неудачливого главного конкурента, стало для Моисеева настоящим вызовом. Впрочем, и для клуба тоже.
Была одна проблема: его родной клуб, чья мощь казалась тотальной (Моисееву ли было этого не знать!), продолжал обыгрывать всех и вся. «Динамо» упиралось до последнего; однажды, ровно в середине 80-х, до чемпионства оставалось подать рукой — сезон был динамовский, который бело-голубые благодаря усилиям Юрия Ивановича провели куда ровнее, чем уставший от собственных побед ЦСКА. Но в самый последний момент, уже практически в безнадежной ситуации, армейцы включили привычный «инстинкт убийцы», на краешке спасли матч с главным конкурентом, и от этого удара бело-голубые не смогли оправиться и в последующие годы работы Моисеева.
Тем не менее, для Моисеева как главного тренера это были хорошие, насыщенные, полноценно творческие годы. Иному хватило бы трех серебряных и одной бронзовой награды чемпионатов страны, но Юрий Иванович был слишком амбициозен, чтобы остановиться и успокоиться. «Бело-голубые» наконец взяли свое, на исходе 80-х уже с Юрзиновым; сыграл эффект раскрепощенности (Моисеев традиционно старался держать армейские рамки), но не в последнюю очередь помогло резкое ослабление ЦСКА. Часть этого долгожданного успеха принадлежала и Юрию Ивановичу, но его страница в этом клубе была уже перевернута.
А дальше неутоленные амбиции Юрия Моисеева на время остановил глобальный катаклизм, в том числе развал его хоккейного мира. «Командировка» в Эдмонтон была странной, как и его роль в знаменитом канадском клубе; не менее странным опытом оказалась и работа с московским «Аргусом». Это, конечно, не был уровень Моисеева, но в те годы вальяжно выбирать работу не приходилось.
…Он целиком и полностью продукт советской эпохи, а в хоккее — эпохи далеко не самой плохой. Уроженец Пензы, воспитанник пензенского «Труда» транзитом через новокузнецкий «Металлург» оказался сразу в ЦСКА, хотя его звали и в «Химик» Эпштейна, и в «Динамо» Чернышева. Шансов заиграть в компании великих в начале 60-х было немного, но Моисеев заиграл. Такой игрок был Анатолию Тарасову необходим; с его помощью можно было воплощать самые разнообразные идеи мэтра. Моисеев, с его настырностью, желанием залезть под кожу любому сопернику и сделать пребывание на площадке невыносимым для любого лидера, умением не уставать ни в атаке, ни в обороне, подходил под эксперименты Тарасова идеально.
О знаменитой тарасовской «системе» (Ромишевский-Зайцев, Мишаков-Ионов-Моисеев) знают все. Не все знают, что далеко не все спецзадания мэтра Юрию Моисееву нравились — например, опека Вячеслава Старшинова в стиле «сам не играю, и другим не даю». Он все-таки играть любил, пусть по части творческой изобретательности и уступал, конечно, великим. Крайних нападающих в 60-х хватало минимум на две советские сборные, поэтому в первой сборной у Моисеева оказался сравнительно короткий период. Роль звена, которое не определяет исход матча, но изматывает соперника, а при случае и наказать может, была для Моисеева с партнерами узковата, но тут уж надо было выбирать — или самовыражение, или работа на команду. И если бы не Тарасов, не видать бы Юрию Ивановичу золотой олимпийской медали Гренобля — положа руку на сердце, свою так и не прижившуюся «систему» Тарасов именно что «продавил», и самый обделенный участием в сборной, но самый старательный нападающий «сдерживающего звена» Моисеев без самой главной своей игровой награды не остался.
…Тарасова он боготворил. Собственно, никого другого своим учителем и не называл. Восхищался всем, что делал мэтр, в том числе его артистическим даром и умением сделать любое рутинное занятие интересным. Кстати, сам Анатолий Владимирович не видел в Моисееве будущего тренера. И — ошибся, в чем уже годы спустя пусть косвенно, но признался. Мало кто так естественно впитал принципы великого импровизатора, как его взрывной, юркий и пружинистый (прозвище «Джина» — от «пружина») крайний нападающий под 15-м номером. Приверженность именно принципам Тарасова — важнейший компонент становления Моисеева и как игрока, и как тренера. Больше даже, как тренера.
Сам себя он считал игроком средним. Оценка жесткая, но зато без самолюбования и обиды на обстоятельства. Когда жесткая рука Тарасова чуть ослабевала, Моисеев с партнерами мог сделать гораздо больше, чем от них привычно ждали. Часто вспоминают и игру с канадцами в Гренобле, в которой решалась судьба олимпийского золота, где третья тройка проявила себя очень достойно не только по оборонительной части. А сам Юрий Иванович не раз вспоминал двухматчевый финал Кубка европейских чемпионов 1970 года, когда в практически безнадежной ситуации второй игры именно звено Мишаков – Ионов – Моисеев переломило ситуацию на 45-й минуте третьего периода, и счет 3:5 волшебным образом переменился на 8:5.
Игровые качества Юрия Моисеева высоко ценил сам Всеволод Бобров: «Юркий, верткий, очень подвижный, он разрушал самые, казалось бы, надежные оборонительные бастионы». Специалисты прекрасно понимали, что без таких трудяг, как Моисеев, не бывает солистов. С другой стороны, 197 заброшенных в чемпионатах страны шайб говорят сами за себя. Конечно, замечалось, как работает Моисеев в обороне, как он не щадит себя в игре, но у нас, да и во всем мире больше ценят солистов первого плана, а Юрий Иванович, зная себе цену, таковым себя не считал.
…К тренерской профессии готовил себя исподволь, и не только в чисто хоккейном плане. Много ли у нас тренеров, у которых за плечами железнодорожный техникум, Московское высшее командное училище и Московский областной педагогический институт? С таким хоккейным багажом и таким опытом был прямой путь в наследники великих предшественников и хранителей традиций.
Возможно, Юрию Ивановичу его приверженность принципам того хоккея, в который он сам играл, действительно немного мешала, особенно на склоне тренерской карьеры. Тут бы и харизма не помогла, но не отменить же того факта, что хоккейная Казань поднялась именно на жестких методах Моисеева, как бы потом ни сложилась ситуация во время второго прихода в «Ак Барс». Второе расставание с клубом Юрий Иванович переживал несравненно тяжелее, чем первое. Ему было, чем заняться, и что вспомнить, но полноту жизни он ощущал только в работе.
Памятник ему поставили в родном городе. Как первый олимпийский чемпион по хоккею из Пензы и по совокупности других заслуг он его полностью заслужил.
Досье
Юрий Иванович МОИСЕЕВ. 15.07.1940, Пенза – 24.09.2005, Москва. Советский хоккеист, нападающий, тренер. Заслуженный мастер спорта (1968), заслуженный тренер СССР (1982).
Награжден орденом Знак Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени (1996). В Зал славы отечественного хоккея введен в 2014 году.
Карьера игрока. 1957-1960 – «Труд» (Пенза), 1960-1962 – «Металлург» (Новокузнецк), 1962-1972 – ЦСКА.
В чемпионатах СССР – 400 матчей, 197 заброшенных шайб. За сборную СССР – 44 игры, 18 голов. На олимпийском турнире-1968 – 7 матчей, 2 гола.
Достижения. Олимпийский чемпион и чемпион мира-1968. Чемпион СССР 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1970, 1971, 1972. Второй призер чемпионатов СССР 1967, 1969.
Карьера тренера. 1972-1974 – хоккейная школа ЦСКА, 1974-1976 – СКА (Куйбышев), 1976-1984 – ЦСКА, ассистент; 1984-1989 – «Динамо» (Москва), 1989-1990 «Эдмонтон Ойлерз», тренер-селекционер; 1990-1992 – «Аргус» (Москва), 1993-1995 – ЦСК ВВС (Самара), 1995-1999, 2001-2003 – «Ак Барс» (Казань).
Достижения. В качестве ассистента главного тренера – чемпион СССР 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984. В качестве главного тренера – чемпион России 1998, второй призер чемпионатов СССР 1985, 1986, 1987, третий призер 1988.